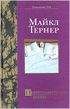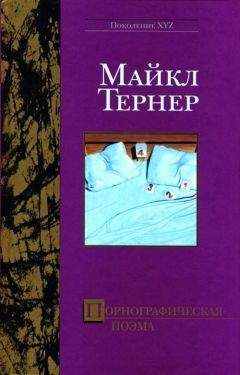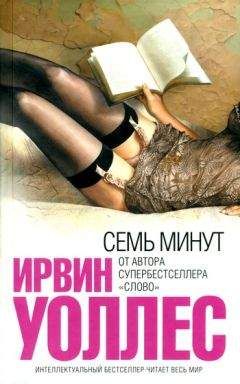Периодически все это страшно меня доставало. Я говорил Флинну, что с меня довольно, что я сыт по горло, что я доделаю последнюю короткометражку и завяжу с этим, и т. д. Он делал вид, что воспринимает мои слова очень серьезно, говорил, что совершенно согласен со мной, что понимает мои чувства, что ему очень стыдно за то, что он чрезмерно загружает меня работой, и что он приносит свои извинения. После этого я получал небольшую денежную премию, некоторое количество кокса — обычно кокса — и обещание, что он будет больше прислушиваться к моему мнению и предоставит мне большую свободу творчества. Как правило, этого оказывалось достаточно — обещания большей свободы творчества.
Но иногда я шел дальше. Я был тверд как алмаз — мне нужны мои собственные проекты! Художник я или дерьмо собачье? Тогда Флинн принимался разглагольствовать о роли художника в обществе, о будущем, которое мы с ним строим, о политических и социальных преобразованиях и других идеях, которые мы любили обсуждать с Нетти. Обычно это действовало. Не столько потому, что я соглашался со всем, что он говорил, и верил в благородство его целей, сколько потому, что мне нравилось, как он говорил о нас с Нетти. Кажется, он хорошо понимал наши отношения. Он давал мне новый взгляд на них. Мне это нравилось, особенно с тех пор, как я в некотором роде потерял связь с Нетти. Только изредка, когда никакие другие аргументы не действовали, Флинн напоминал мне о Кае.
Впрочем, один раз мне удалось очень близко подойти к прекращению работы и разрыву отношений с Флинном.
Это было в канун Рождества 1979 года. Мама попросила меня помочь ей купить рождественский подарок для Карла. Я хотел было отказаться, но подумал, что это хороший повод пообщаться с мамой, которую я мало видел в последнее время, и согласился. Карл хотел спортивный костюм, так что мы отправились в магазин «Вудвардс» на Гастингс-стрит. Мама уже присмотрела костюм, и ей лишь было нужно мое одобрение. Я похвалил ее выбор.
— Карл будет очень неплох в мохере, — сказал я.
Купив костюм, мы отправились на запад, в сторону парка. Вышли на Гринвилл-стрит и двинулись по ней в сторону огромных часов, под которыми ошиваются бродяги со всей округи. Мама тихо сказала что-то насчет того, как печально, что столько детей сбежали из дома и живут на улице, и как было бы славно, если бы они все вернулись домой на Рождество, осчастливив своих родителей. Тихо, но недостаточно тихо. Девушка, которая собиралась попросить у нас милостыню, услышала мамины слова и наехала на нее. Назвав маму сукой, она сказала, что та не имеет никакого представления о том, какой бывает домашняя жизнь, что любовник ее матери не раз бил ее и насиловал.
— Как бы вам понравилось вернуться в такой дом — тем более в это ебаное рождественское время, леди? — с вызовом спросила она.
Тут я заметил, что мы окружены плотным кольцом уличных подростков. Они оказались весьма грубыми: не толкали и не били нас, но словесных оскорблений было предостаточно. Нам пришлось нелегко. Это было уже слишком. Слишком много за один раз. Особенно для мамы. Каждый хотел высказаться, поведать историю своей жизни. Некоторые из этих историй были похожи на те, которые я уже слышал раньше от наших актеров. Но выслушивать все это вот так, стоя посреди улицы с мамой, было тяжело.
Впрочем, оглядываясь сейчас назад, я рад, что все это с нами случилось. Хорошо, что мама получила кое-какое представление о жизни на улице. Я никогда не смог бы объяснить ей, насколько мрачным был мир для большинства людей моего возраста. Не всем детям родителей-одиночек жилось так хорошо, как нам с сестрой.
Мне никогда не удалось бы убедить маму, что она сделала большое дело, воспитав нас с сестрой. Ее никогда не убеждало то, что говорим ей мы, если не слышала этого от кого-нибудь еще. От миссис Смарт, например. Или от Карла. Так что я в конечном счете признателен этим уличным подросткам, которые позволили маме почувствовать разницу между ней и их собственными родителями. Она отчаянно нуждалась в этом. Насколько хуже все было бы в моей жизни и в жизни моей сестры, если бы не ее постоянные усилия! А ведь она всегда чувствовала вину за то, что мы растем в неполной семье.
Увидев небольшой просвет в окружающей нас толпе, я стал проталкивать маму в этом направлении. Мы были почти на свободе, когда какая-то стремная девица выскочила прямо на нас, так напугав маму, что та споткнулась и упала. Я поднял ее, и мы быстро двинулись в другом направлении. Тут, однако, перед нами вырос не кто иной, как Донни Г., 6 фт. 3 д.[56], 180 ф.[57], перец 8 д.[58] (толстый). Я прибавил шагу. Нам удалось вырваться целыми и невредимыми, но этот ублюдок успел пронзительно крикнуть:
— Эй ты, эта старая курица собирается покрасоваться в твоей очередной порнухе?
Слава Богу, что мама после всех пережитых треволнений плохо соображала. Я уверен, что она просто умерла бы, узнав, что имел в виду Донни.
Когда я рассказал все это Флинну, добавив, что именно по этой причине ухожу из нашего бизнеса, он сильно расстроился. Это произошло как раз после того, как мы отсняли «Еблю большим пальцем ноги». Он сидел, слушая меня. А я разливался соловьем, чувствуя, что наконец набрал достаточное ускорение для того, чтобы покончить с работой во «Флиннскине» раз и навсегда. Для пущей уверенности я еще раз перечислил все резоны, которые называл обычно. И Флинн, как я уже сказал, сидел, слушал меня и кивал — как будто во всем со мной соглашался. Заканчивая свою речь, я думал, что наконец-то одержал победу. Небольшая, но сильная речь — я чувствовал гордость за нее. И еще я хорошо понимал, что, если поведусь на то, что скажет мне Флинн, если хотя бы начну слушать его, — всему конец. Он так или иначе убедит меня. Так что, закончив, я быстро выскочил за дверь и скатился вниз по ступеням, чувствуя себя при этом превосходно. Вот она, свобода! Но у входной двери подъезда меня ждал Флинн, каким-то непостижимым образом меня опередивший. Он встал между мной и дверью. В его глазах я увидел слезы.
Он сказал мне, что очень, очень сожалеет о случившемся. Он просил меня — нет, умолял! — дать ему еще один шанс. Я почувствовал, что моя защита слабеет. Ему невозможно было сопротивляться. Наконец он добил меня последним мастерским ударом.
— Может быть, мне стоит поговорить с твоей матерью? — предложил он.
— Но в какой-то момент вы все-таки перестали работать на Флинна.
— Вроде того.
Выпускной. 1980 год, жаркий июньский полдень. Я сижу в гостиной своего дома, одетый в голубой смокинг — усовершенствованный вариант того смокинга, который Дунк Смарт брал напрокат пять лет назад. То и дело смотрю на часы и обливаюсь потом. Через час я должен ехать в Дунбар, чтобы взять свою партнершу для выпускного вечера. Партнеров для каждого выпускника определял компьютер. Вы ни за что не поверите, кого он для меня выбрал. Черил Паркс! Так что я, разумеется, нервничаю. Гораздо сильнее, чем если бы это была, скажем, Шона Ковальчак или Марги Скотт.
Но что самое ужасное — первый раз за полтора года я не получил на этой неделе свертка из кодаковской фотолаборатории. Неужели кодаковские лаборанты наконец меня раскусили? Если так, к какому дерьму это приведет? Это было слишком. В довершение всего наша последняя пленка — пленка, которую я ждал, — была особенно скабрезной. Оставалась единственная надежда: что она не получилась, каким-нибудь чудом оказалась недодержанной. Но если это действительно так, Флинн будет в бешенстве. Так что в любом случае меня ожидали неприятности.
Напротив меня сидит Карл. Мы ждем маму, которая запаковывает для меня подарок по случаю окончания школы — она собирается мне его вручить перед выходом. Карл пристально смотрит на меня. Он не сказал мне ни слова со времени нашей баталии в день приезда Нетти. Все так и должно быть. Он и без слов виден насквозь. Самодовольный, ограниченный мудак! Кажется, сейчас что-то вякнет наконец. Но на сей раз он удивляет меня. Вместо какой-нибудь пошлой банальности, которую я приготовился услышать, вроде «Ну, я думаю, теперь ты стал мужчиной» или «Полагаю, теперь ты найдешь свое место в жизни», он произносит нечто неожиданное — сука ебаная!
— Думаю, это очень здорово, что ты закончил школу, несмотря ни на что, — сказал он. — Твоя мать так счастлива!
Я принужденно улыбнулся в ответ. Сделал все, что мог. Никогда не понимал, что мама нашла в этом сопляке, в этом ничтожестве. Но ему удавалось-таки делать ее счастливой. А это ведь самое главное, не так ли? Я чувствовал себя немного задетым тем, что Карл не сказал того, что я ожидал от него услышать. Но скажи он это, я бы злился еще больше. И это было как раз то, чего я хотел: хорошенько разозлиться. Тут вошла мама и прервала мои размышления. В руках у нее был сверток. Несомненно, что-нибудь для моей будущей квартиры, куда, как надеялся Карл, я скоро перееду.
— Видеокамера «Сони бета-макс»!